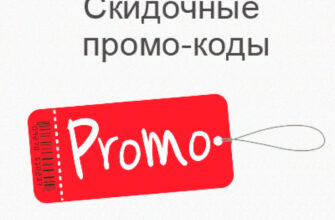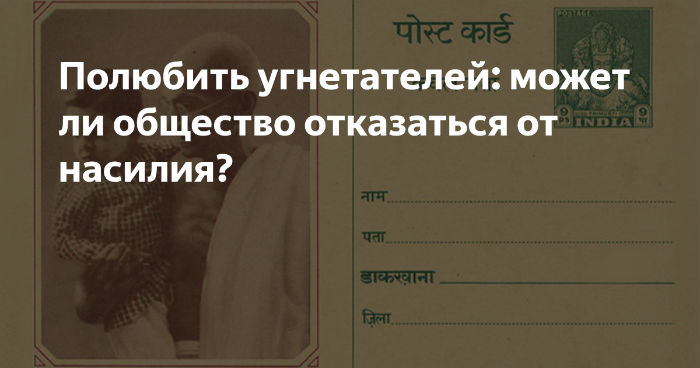
Историк Лоуренс Фридман в книге «Стратегия: Война, революция, бизнес» анализирует, какими стратегиями пользовались военные, политики и общественные деятели в разное время, начиная с библейских героев и древних греков.
Почему философия Махатмы Ганди помогла противостоять британским колонизаторам, но казалась уже не такой эффективной в борьбе чернокожих за гражданские права в США, как ненасилие пытались сделать новым видом оружия и из-за чего попытки обращаться к обществу через мораль и любовь иногда приводят к катастрофам.
Термин пацифизм вошел в обиход в XIX веке, его использовали те, кто отрицал любое насилие. Пацифисты сталкивались со стандартными проблемами: как, обороняясь, справиться с агрессией других, и затем как, наступая, добиться изменений без применения насилия. Наиболее серьезное обвинение против них заключалось в том, что, делая упор на мир, а не на несправедливость, пацифисты поддерживают статус-кво. Отрицая применение силы со стороны угнетенных, они тем самым укрепляют существующую иерархию власти и либо недооценивают недостатки современного общества, либо утверждают, что способны их устранить, но предлагают для этого неподходящие методы, например, призывы к любви и разуму. Пацифисты в ответ возражали, что именно угнетенным будет что терять в случае, если спор перейдет в борьбу, и что стоит им применить насилие, даже ради правого дела, это значительно понизит вероятность благоприятного исхода. Кроме того, всегда можно придумать эффективные формы давления, не прибегая к насилию.
Влияние Ганди
После Первой мировой войны пацифизм был силен как никогда. Во многом это объяснялось свежими воспоминаниями о бойне на Западном фронте, которую общественное мнение считало подтверждением бесполезности и бессмысленности войн. Кроме того, стали появляться свидетельства эффективности пацифизма в борьбе за радикальные изменения — в частности, пример успехов Махатмы Ганди в противостоянии британскому правлению в Индии.
Философия Ганди сформировалась под влиянием опыта, приобретенного им в Южной Африке и Индии. Большое впечатление произвел на него Генри Дэвид Торо из Конкорда (штат Массачусетс), который в своем непризнании рабства отказался «платить налоги или признавать авторитет государства, которое покупает и продает мужчин, женщин и детей». После шести лет неподчинения Торо оказался под арестом и провел ночь в тюрьме, результатом чего стала его лекция 1849 года «Отношения личности с государством». Хотя его стратегия не шла дальше утверждений о том, что если бы все последовали его примеру, рабство давно бы исчезло, а сам он считался чудаковатым одиночкой, его лекция (опубликованная под названием «Гражданское неповиновение) стала классическим манифестом этических убеждений, диктовавших неподчинение несправедливым законам. Ганди читал Торо, еще будучи молодым политиком, а позднее утверждал, что тот помог сформироваться его философским взглядам и стал связующим звеном между Ганди и его американскими единомышленниками.
Еще теснее была его связь с Толстым. В своей автобиографии Ганди говорил, насколько «Царство Божие внутри вас» Толстого его «потрясло». В 1908 году Ганди перевел и распространил «Письмо к индусу», написанное Толстым по просьбе главного редактора одного из индийских журналов. В нем содержалось утверждение, показавшееся Ганди неоспоримым: Толстой писал о том, насколько удивительно, что «более чем 200-миллионный, высокоодаренный и духовными и телесными силами народ находится во власти совершенно чуждого ему небольшого кружка людей, стоящих в религиозно-нравственном отношении неизмеримо ниже тех людей, над которыми они властвуют». Отсюда он делал вывод: «Разве не ясно по одним цифрам, что не англичане, а сами индусы поработили себя». Вместо жесткого сопротивления Толстой призывал не участвовать в «во зле, в насилиях администрации, судов, сборов податей и, главное, войска», а любовь называл «единственным средством спасения людей от всех претерпеваемых ими бедствий. В данном случае единственное средство освобождения вашего народа от порабощения только в любви».
Между этими двумя мыслителями было много общего. Оба вели жизнь, основанную на самоочищении, любви и непротивлении. Оба, несмотря на привилегированное происхождение, старались быть ближе к бедным, обездоленным массам. Скромность и аскетический образ жизни укрепляли их моральный авторитет, в том числе у международной аудитории. Ганди поддерживал идею самосовершенствования, но, в отличие от Толстого, считал ее не альтернативой политической активности, а составной частью последней. Он прекрасно понимал, что личная духовность не только защищает его от искушений общественной жизни, но также добавляет убедительности его политическим заявлениям. Гений Ганди заключался в его умении использовать учение, которым он руководствовался в личной жизни, как основу для массового движения.
Его философия сатьяграхи — название, которое он придумал сам, — сочетала в себе любовь, истину и твердость. Те, кто принимал эту философию, обретали внутреннюю силу, которая наделяла их мужеством и дисциплинированностью, а те позволяли бороться и побеждать врагов, опиравшихся на насильственные методы. Он настаивал на неразделимости целей и средств: жестокость не могла привести к торжеству мирного общества. Тюрьму следовало принимать с почтением, нападки — с радостью, а смерть — с миром. Речь Ганди всегда была спокойной, как у профессора, а не политика. Все это сочеталось с острым политическим умом. Ганди обладал талантом заставлять своих оппонентов обороняться, в чем ему помогало не только моральное превосходство, но и затрагивание тем, особенно неудобных для англичан.
В марте 1930 года он начал 390-километровый «соляной поход», чтобы привлечь внимание к несправедливости британского колониального правления, монополизировавшего производство соли, а затем обложившего ее огромными налогами. Поначалу его протест не был воспринят всерьез, однако он постепенно набрал силу, в результате чего Ганди оказался в тюрьме, где просидел до следующего года. Хотя с точки зрения ближайших целей кампания не была успешной, методы Ганди заставили власти отметить, сколько людей в стране готово присоединиться к протестам. Масштабы и сила народного недовольства впечатлили англичан. У них не нашлось достойного ответа методам Ганди и его моральному превосходству. Уильям Веджвуд Бенн, государственный секретарь по делам Индии, в 1931 году отметил сходство индийской кампании с движением суфражисток, а также с борьбой ирландцев и южноафриканцев против британского правления. «Все они апеллируют к сочувствию, привлекая общественное мнение в качестве союзника. Они пытаются поставить правительство перед альтернативой — либо пойти на уступки, либо предстать в роли угнетателя… сначала они намеренно провоцируют жесткость, а потом жалуются всему миру на нее». Еще раньше он пришел к выводу, что лучше всего при подобных конфликтах избегать выбора между уступками и подавлением, однако уклоняться удавалось не всегда. «Они не позволят нам оставить их в покое». Гораздо лучше было бы «вступить в прямую борьбу с мятежным народом — это куда проще и эффективней».
Организованные Ганди кампании не изгнали англичан из Индии. Однако, наряду с кризисом, возникшим в результате Второй мировой войны, они подтвердили, что субконтинент слишком велик, чтобы его могло эффективно контролировать одно небольшое и далеко расположенное государство, авторитет и возможности которого стремительно падали. Националистические настроения в Индии достигли пика — их невозможно было сдерживать до бесконечности. Хотя попытки Ганди сами по себе не положили конец британскому правлению, они превратили его Конгресс в авторитетную альтернативу колонизаторам. Тот факт, что его методы привели к успеху на фоне прочих, более глубоких социальных и политических факторов, не является причиной полностью отказываться от них, хотя и ставит вопрос об их эффективности в другом контексте.
Во времена борьбы и восстаний по всему миру Ганди выделялся на фоне других лидеров своим личным достоинством и добротой, простотой одежд и привычек, а также особой духовностью. В то же время ему удалось сформировать мощное и успешное массовое движение, для которого Ганди прибегнул к привычной тактике слабого игрока — маршам, стачкам и бойкотам, используя их как составляющие величественного и достойного нарратива. Его призывы к доброй стороне противника и обещания мира оставляли возможности для компромисса. Но была ли такая стратегическая формула применима в широком смысле или подходила исключительно для Индии в сложившихся обстоятельствах? Зависел ли ее успех от моральных факторов и опоры на всеобщие и вневременные ценности или был обусловлен лишь специфической комбинацией условий?
Утверждая, что ненасилие непременно принесет ожидаемый эффект, его сторонники избегали важной проблемы, так как игнорировали возможность сложного выбора. Их метод признавался величественным и достойным именно потому, что одним из возможных исходов были страдания без всякого политического выигрыша. Однако если он не обещал успеха с достаточной вероятностью, настаивать на ненасилии означало мириться с еще большим злом, рискуя одновременно и своими сторонниками, которые оставались в опасности и без всякой защиты. Даже признание того, что насилие не может вести ни к чему хорошему, не означало, что ненасилие не приведет к еще большему злу.
Вопрос этот встал особенно остро с приходом к власти Гитлера и Второй мировой войной. Ненасилие могло сработать с англичанами, стремившимися избежать жестокой борьбы и демонстрации народного гнева, однако уверенность Ганди в том, что его методы подходят и против нацистов, мало кто разделял. Сам он не очень хорошо справлялся с собственным народом, когда Индия получила независимость и в ней начались внутренние конфликты. Несмотря на все попытки, Ганди не удалось побороть разногласия между индуистами и мусульманами, а в 1948 году он сам погиб от рук фанатика.
Потенциал ненасилия
Влияние Ганди сказалось на многочисленных кампаниях за гражданские права чернокожих на американском Юге, где сегрегация и дискриминация поддерживались государством. Хотя возможное использование тактики ненасилия активно обсуждалось в межвоенный период, только после Второй мировой войны эти методы были применены в ходе кампании, внезапно оказавшейся на удивление успешной.
Между аренами, где развивались вышеупомянутые события, имелись значительные различия. Ганди пытался поднять все население Индии на борьбу с удаленной империалистической державой. Чернокожие представляли собой меньшинство, противостоящее решительно настроенному местному большинству. Их деятельность в острой форме поднимала дилемму, связанную со стратегией ненасилия. Так называемые законы Джима Кроу (по имени карикатурного чернокожего персонажа из театрального шоу), принятые в южных штатах после гражданской войны, зачастую держались на насилии. Они затрудняли чернокожим доступ к голосованию; в соответствии с ними для чернокожего населения предусматривалась отдельная система питания, транспорта, ритуальных мероприятий, здравоохранения и образования; они также запрещали браки и сожительство между черными и белыми. Попытки воззвать к доброй стороне у сторонников сегрегации быстро доказали свою полную бессмысленность, а ненасилие могло оказаться самоубийственным.
Барьеры, не позволявшие чернокожим самим определять свою судьбу с точки зрения политики и экономики, подрывали Атлантский компромисс 1895 года, предложенный Букером Т. Вашингтоном. «Наиболее мудрые представители моей расы, — отмечал он, — понимают, что будоражить вопросы социального равенства сейчас крайне неосмотрительно». Вместо этого чернокожим следовало активно трудиться в быстро развивающейся промышленности, становиться образцовыми рабочими и так постепенно вливаться на равных в американское общество (поскольку «ни одна раса, способная сделать вклад в мировые рынки, ныне не подвергается остракизму»). За этим наверняка должно было последовать и гражданство. Неудивительно, что компромисс охотно приняли умеренные со стороны и белого, и чернокожего населения. Постулат о том, что невозможно добиться политического влияния без влияния экономического, был отчасти оправдан. На практике, однако, в отсутствие сколько-нибудь значительного прогресса как на экономическом, так и на политическом фронте компромисс начали воспринимать как продолжение рабства. Более радикальным, но также и аналитическим подходом прославился У. Дюбуа, первый афроамериканец, получивший докторскую степень в Гарварде. Он учился с Вебером в Германии и затем поддерживал с ним переписку. Вебер считал Дюбуа одним из самых одаренных американских социологов и всегда приводил его в пример, развенчивая расовые стереотипы. Дюбуа организовал несколько крупных исследовательских программ по «негритянскому вопросу», продемонстрировавших влияние политического выбора, а не некую изначальную разницу между расами. Он выступал за гражданские права чернокожих и основал Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения (NAACP) при поддержке белых реформаторов, в частности, Джейн Аддамс и Джона Дьюи.
«Толпа вообще не склонна проявлять здравый смысл. В результате попытки обращаться к группам через мораль и любовь, которые могут сработать в отношении отдельного человека, порой приводят к катастрофам»
В 1924 году Дюбуа опубликовал критику ненасилия Франклина Фрейзера (еще один чернокожий социолог из Чикаго), изложившего свои взгляды в газете «Кризис», официальном печатном органе NAACP. Фрейзер высмеивал идею о том, чтобы подставлять ударившему другую щеку. Статья была опубликована вскоре после того, как Сенат отложил принятие закона против линчевания, продемонстрировав, что белый истеблишмент на Юге поддерживает расовые убийства как способ запугивания чернокожих. Отвечая Фрейзеру, белая квакерша Эллен Винзор приводила в пример Ганди, спрашивая, возможно ли, чтобы подобная фигура «возникла и в этой стране и вывела народ из нищеты и неведения, но не старыми методами грубой силы, несущими лишь горе и несправедливость, а новыми методами образования, основанными на экономической справедливости, которая прямо ведет к Свободе». Фрейзер отреагировал незамедлительно: «Предположим, что у нас действительно появится свой Ганди, который возглавит негров, и они без всякой ненависти в сердцах перестанут гнуть спины на полях Юга под присмотром пеонов; не будут платить налоги штату, который не дает образования их детям; начнут игнорировать намеренное препятствование им при голосованиях и законы Джима Кроу, и вскоре, боюсь, мы станем свидетелями беспрецедентного избиения беззащитных чернокожих мужчин и женщин во имя Закона и Порядка, а у Америки вряд ли достанет христианского сочувствия, чтобы остановить кровопролитие».
Когда несколько лет спустя Дюбуа предложил Ганди написать для него статью, а вскоре ее получил, то добавил к ней свое собственное наблюдение: «Агитация, непротивление, отказ сотрудничать с угнетателем стали девизами Ганди и помогли ему привести Индию к свободе. Сейчас он протягивает руку дружбы своим цветным товарищам на Западе». Дюбуа больше сосредоточился на готовности Ганди переходить к решительным действиям и на отказе склоняться перед угнетением, чем на его глубинной философии. В отношении нее он был настроен скептически. Когда другие американские чернокожие активисты начинали говорить о кампаниях Ганди, Дюбуа всегда указывал на то, что тактики голодовок, публичных молитв и самопожертвования чужды для США, в то время как в Индии они «впитывались в плоть и кровь народа больше трех тысячелетий».
Ганди никогда не бывал в США, но понимал политическую важность борьбы негритянского населения для его собственного дела — получения независимости от Великобритании, — а также для потенциального использования его идей внутри американского общества. Изначально точкой соприкосновения было не столько угнетение чернокожих, сколько традиционная пацифистская сосредоточенность на войне и более современный интерес к волнениям рабочих. Работая адвокатом на процессах по трудовым спорам в начале 1920-х годов, Ричард Грегг проникся симпатией к профсоюзному движению и был поражен жестокостью, с которой работодатели его подавляли. Понимая, какую опасность представляет ответная жестокость со стороны рабочих, он занялся вопросами пассивного сопротивления. Это привело его в Индию, где он неоднократно встречался с Ганди. По возвращении он написал цикл книг, призывавших к отходу от традиционного пацифизма как сложного морального выбора, выражения внутренней убежденности в священности человеческой жизни и сосредоточенности на военных проблемах в пользу стратегической оценки особого влияния, связанного с обязательством избегать насилия при участии во внутренних конфликтах. Он стремился избавить пацифизм от «излишнего использования бесполезных эмоционально окрашенных прилагательных и туманного мистицизма, пустых протестов и сентиментальности в сочетании с путаной философией». Вместо того чтобы подчеркивать его контраст с традиционной военной стратегией, он призывал читателей рассматривать ненасилие как новую разновидность оружия — изобретение в военной сфере, позволяющее бороться, не убивая.
Грегга особенно интересовала возможность использовать страдание, чтобы придать событиям драматизм. Вопрос заключался не только в личных убеждениях, но и в том, способны ли подобные действия пристыдить противника и вызвать сочувствие у окружающих. Он описывал, как ненасильственное сопротивление жестокости противника превращается в «своего рода моральное джиу-джитсу», заставляя атакующего «терять моральное равновесие». Это зависело от перемены мнения, которая, в свою очередь, зависела от нервной системы, откликающейся, практически невольно, на страдания человеческого существа. В современную эпоху масштаб и влияние подобной реакции становились еще больше благодаря масс-медиа. Драматическое зрелище беззащитных мужчин и женщин, принимающих на себя безжалостную атаку, превращалось в ценную «историю» и «громкую новость». Вероятность дурной славы становилась угрозой для нападающего. Грегг считал такой подход выгодным для борьбы чернокожего населения за свои права и поддерживал связь со своим однокашником по Гарварду У. Дюбуа. Неизвестно, однако, как Дюбуа относился к описанию Греггом негров как «мягкой расы, привыкшей покорно сносить страдания», и потому идеально подходящей для кампании ненасилия.
Пока Грегг решал, может ли ненасилие стать основой для стратегии, Рейнгольд Нибур, протестантский священник, утверждал, что нет. Поначалу он стоял на схожих позициях, однако пришел к большему радикализму, когда в качестве пастора в Детройте познакомился с рабочими завода «Форд». Постепенно он стал относиться к ненасилию как к негласной поддержке статус-кво. Он не возражал против самого принципа, однако предупреждал о последствиях его применения в нашем несовершенном мире. Нибур не разделял оптимизма в отношении изначальной доброты людей. Неосторожно было ожидать от тех, кто извлекает прибыль из неравенства и несправедливости, позитивной реакции на оправданные требования равенства и справедливости. Вместо того чтобы обращаться к сильным мира сего с позиций любви, следовало противопоставить им другую силу. Эти взгляды Нибур отразил в своей знаменитой и весьма влиятельной книге «Нравственный человек и безнравственное общество».
Внимание Нибура к власти и влиянию привело к тому, что его стали рассматривать как ведущего мыслителя реализма, уникальность которого заключалась в том, что он рассматривал данные вопросы в теологических терминах. С учетом основной темы книги мы не будем вдаваться в теологические тонкости слишком подробно. Достаточно будет сказать, что Нибур считал стремление к власти способом, с помощью которого люди пытаются стать значительнее перед лицом бесконечной вселенной. Их врожденное тщеславие подкрепляется самой природой человеческого сознания. Поскольку человеческие существа могут представить, как их желания исполняются за пределами текущих возможностей, они продолжают стремиться к величию, которое, если его не сдерживать, отрицает любую возможность компромисса ради подготовки к борьбе. Хотя здравый смысл призывает к сотрудничеству и ненасильственным мерам, «нет такого чуда, которое заставит человека достичь такой степени разумности, чтобы поставить общие интересы превыше личных». Группирование дополнительно осложняет ситуацию, поскольку толпа вообще не склонна проявлять здравый смысл. В результате попытки обращаться к группам через мораль и любовь, которые могут сработать в отношении отдельного человека, порой приводят к катастрофам.
Нибур сознавал, что его мрачный взгляд на человеческую природу и роль власти и личных интересов в делах может привести к упадничеству у жертв несправедливости и неравенства. Однако реализм, по его мнению, был лучшей отправной точкой, чем наивный и сентиментальный идеализм, переоценивающий врожденную доброту и честность других людей. Те, кто отказывался признавать реалии конфликта и исследовать вопросы власти, предлагали меры, на практике оказывавшиеся слишком скромными и неэффективными. Их недовольство принуждением, в том числе с применением силы, не позволяло им добиться справедливости. «Немедленные последствия, — замечал он в терминах, которые Вебер наверняка бы одобрил, — следует взвешивать относительно последствий долгосрочных». В противовес мнению о том, что некоторые средства ничем нельзя оправдать, Нибур был готов утверждать, что цели все-таки представляют оправдание. И снова общественная мораль отличалась от индивидуальной, потому что слишком многое ставилось на карту. Стремление личности к абсолюту могло не дать результата. Когда же к абсолюту стремилось целое общество, оно «рисковало благополучием миллионов». В таком случае лучше было не поддерживать стремление к совершенству у общества и соглашаться на компромиссы.
Следующей стадией в его рассуждениях являлось отрицание любого строгого различения между насильственным и ненасильственным принуждением. «Если принуждение осуществляется в сфере социальных и физических отношений и мест, физические ограничения в отношении желаний и деятельности других являются формой физического принуждения». Даже внешне чуждые насилию методы могут приводить к ущербу. Бойкот Ганди британского текстиля, например, тяжело сказался на положении рабочих текстильной промышленности. Нибура, казалось, больше раздражала показная «праведность» сторонников ненасилия, нежели сама эта практика. Он ценил ее потенциальное преимущество, состоявшее в «отсутствии чувства вины, которое обычно возникает у обеих сторон жестокого конфликта». Она также позволяла продемонстрировать заинтересованность в мирном исходе. Любопытно, что Нибур отмечал потенциальную стратегическую ценность ненасилия «для угнетаемой группы, которая находится в абсолютном меньшинстве и не имеет достаточных сил, чтобы выступить против угнетателей».